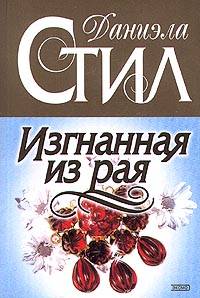О книге
Это — история сильной, целеустремленной женщины. История Пакстон Эндрюз, обаятельной, решительной и смелой.
Ее жизнь была полна взлетов и падений, трагедии и ошеломительных удач. Она совершала ошибки и расплачивалась за них дорогой ценой, сомневалась и рисковала, любила и страдала, была счастлива и переживала боль утраты, боролась — и не теряла надежды на счастье.
Это — история женщины, которая находила в себе мужество снова и снова начинать сначала…
Глава 1
Был серый прохладный день в Саванне, с океана на город дул резкий ветер. Опавшая листва лежала на земле Форсит-парка. Парочки прогуливались, взявшись за руки, несколько женщин болтали, докуривая сигареты перед работой. Вестибюль Высшей школы Саванны пустовал. Звонок прозвенел в час, и ученики уже разошлись по классам. Было тихо, только где-то на втором этаже слышался смех. Скрип мела и выражение безнадежного отчаяния на лицах второгодников предвещали внезапный опрос по гражданскому праву. В старшем классе говорили о Совете колледжа, который должен состояться на следующей неделе, как раз перед Днем Благодарения[1]. Работало радио, и кто-то краем уха слышал, что далеко, в Далласе, произошло вооруженное нападение. Какого-то мужчину выстрелом ранило в голову и отбросило в машине прямо на руки жене. Никто не успел понять, что же там произошло, а по радио уже сообщали о предстоящем Совете колледжа. Пакстон Эндрюз попыталась побороть дремоту, но у нее ничего не получилось, глаза не открывались более чем на секунду.
В час пятьдесят звонок наконец проявил милосердие, все двери разом распахнулись, и потоки молодых людей хлынули в холлы, ненадолго освободившись от опросов, лекций, французской литературы и древнеегипетских фараонов.
Все уже расходились по кабинетам, кто-то заглянул в раздевалку — взять книги и рассказать свежий анекдот; оттуда раздались взрывы хохота. И вдруг все обычные звуки перекрыл долгий тоскливый вопль. Его звук пронзил воздух, как издалека пущенная стрела. Все повернулись в сторону учительской. Там работал телевизор, и встревоженные ученики уже толпились у дверного проема. Люди шикали друг на друга, вскрикивали, звали кого-то, никто не мог понять, что передавали, опять начинали шикать, пытаясь перекричать толпу и навести порядок.
— Эй! Потише! Ничего не слышно. Что случилось?
— Он пострадал?
Неужели он… — Никто не осмеливался произнести это вслух, в толпе вновь раздавались вопросы:
— Что произошло?.. Что?.. В президента Кеннеди стреляли… Я не знаю… это в Далласе… Что случилось?.. Президент Кеннеди…
Он не…
Сперва никто не мог поверить. Каждому хотелось думать, что это неудачная шутка. «Ты слышал, в президента Кеннеди стреляли?» — «Ну… и что дальше? Что за шутка?». Но шутки не было. Были лихорадочные разговоры, бесконечные вопросы и никаких ответов.
Были смущенные лица на телеэкране и повтор кадров с расстроенным автомобильным кортежем, уезжавшим прочь. Ведущий Уолтер Кронкайт с мертвенно-бледным лицом стоял на улице.
«Президент тяжело ранен».
Шепот пронесся в толпе, казалось, все студенты и учителя набились в эту комнатенку, а люди все собирались из классов и коридоров.
— Что он сказал?.. Повторите, что он сказал, — просили издалека.
— Он сказал, что президент серьезно ранен, — разъяснили передние. Три ученицы младшего класса начали плакать. Пакстон стояла с мрачным лицом, зажатая в угол. Внезапно жуткая тишина повисла в комнате, никто не шевелился, будто боясь неловким движением нарушить шаткое равновесие и этим повредить ему. Пакстон поняла вдруг, что вспоминает один день шестилетней давности, когда ей было всего одиннадцать лет.
— Папе плохо, Пакс… — сказал ей тогда брат Джордж. В это время мать была с отцом в госпитале. Отец любил летать на своем самолете на встречи в штате и не смог посадить его во время внезапной грозы около Атланты.
— Что с ним? Он поправится?
— Я… — странно изменившимся голосом начал Джордж, но такая страшная правда была в его глазах, что захотелось убежать и спрятаться. Ей было одиннадцать, Джорджу — двадцать пять. Между ними — четырнадцать с половиной лет разницы и несколько жизней. Пакстон была «случайностью», как шепотом объясняла мать приятельницам, случайностью, за которую до сих пор не переставал благодарить Бога Карлтон Эндрюз и которая до сих пор удручала мать Пакстон. Беатрис Эндрюз было двадцать семь, когда у нее родился сын Джордж. Пять лет она не могла забеременеть, и, как только это случилось, беременность стала непрерывным кошмаром. Она чувствовала слабость каждый день все девять месяцев, роды были так ужасны, что она запомнила их навсегда Ребенок родился после сорока двух часов мук, с кесаревым сечением Это был большой красивый мальчик десяти фунтов весом, но Беатрис Эндрюз зареклась иметь детей. Она не желала повторять то, что с таким трудом пережила, и следила за этим с величайшей осторожностью. Карлтон был внимателен к ней и, кроме того, без ума от сына. Джордж был из тех мальчиков, которых любят все: веселый, смышленый, рассудительный, он занимался спортом, хорошо учился и был вежлив с матерью. Они казались спокойной и счастливой семьей. У Карлтона была обширная юридическая практика, у Беатрис — немаловажные роли в Историческом обществе, Юниор-лиге, в Обществе дочерей Гражданской войны.
Жизнь удалась ей. Кроме того, каждую среду она играла в бридж.
Именно там она и почувствовала первый приступ тошноты. Беатрис решила, что съела что-то не то за завтраком в лиге и сразу после игры пошла домой, чтобы прилечь. Через три недели она узнала, что беременна — в возрасте сорока одного года, с четырнадцатилетним сыном, собирающимся поступать в Высшую школу, и мужем, которому не хватало такта скрыть свою радость. Эту беременность она пережила легче первой, при этом совершенно не заботясь о себе. Она была оскорблена самой возможностью беременности в том возрасте, когда другие женщины уже думают о внуках. Она не хотела второго ребенка сейчас и никогда не хотела его, несмотря на все уговоры мужа Даже крошечная очаровательная девочка с ангельскими кудряшками, оказавшаяся у нее на руках, не утешила ее. Все последующие месяцы она только и говорила, что о своей глупости и часто оставляла ребенка с очень чистоплотной няней-негритянкой, которую нашла еще во время беременности. Ее полное имя было Элизабет Мак-Квин, но все звали ее просто Квинни. Она не была профессиональной няней, просто родила одиннадцать детей, семеро из которых остались живы, и была поистине редчайшим подарком Юга: любвеобильной черной мамушкой, любившей всех; но особенные чувства она испытывала к маленьким детям.
Квинни полюбила Пакстон с такой страстью и теплотой, что превзойти ее не смогла бы даже родная мать. Беатрис Эндрюз, во всяком случае, не превзошла: она ощущала себя неуютно рядом с малышкой и по причине, ей самой непонятной, отдаляла ее от себя. То ей казалось, что у девочки грязные ручки, то малышка подбиралась к флаконам дорогих духов на туалетном столике Беатрис и непременно разливала их. Так или иначе, мать и ребенок раздражали друг друга. Только Квинни могла утешить малышку — за руку ;няни она хваталась, когда боялась или падала; Квинни не оставляла ее ни на миг.
Пакстон не провела ни дня без Квинни: собственные дети няни уже выросли, поэтому она даже не уходила на выходные домой — не могла себе представить, что случится с Пакси, если ее не будет рядом. Отец девочки был очень добр к ней, а вот мать — другое дело. Пакстон росла, и различие между нею и матерью становилось все более заметным; в возрасте десяти лет Пакстон уже догадывалась, что между ними мало общего. Глядя на них, было трудно поверить, что они родственники. Для матери клубы, приятельницы, дни игры в бридж были всем, ради чего она жила. Беатрис не особенно интересовало, когда возвращается домой муж, но вечерами она вежливо выслушивала его за обеденным столом. Пакетом замечала, что мать тяготится отцом.
Карлтон тоже видел это, только не подавал виду. Он чувствовал, что от жены веет прохладой, той самой, которую ощущала и Пакстон со дня своего рождения. Беатрис Эндрюз была обязательной, терпеливой, со вкусом одетой, приятной в общении и прекрасно причесанной леди, но ни разу в жизни она не испытала к кому-нибудь сильных чувств. У нее их просто не было.
Квинни догадалась об этом раньше Карлтона и сказала своим детям, что сердце Беатрис Эндрюз холоднее и меньше, чем косточка персика зимой.
Наиболее похожим на любовь было чувство, которое Беатрис испытывала к Джорджу. Между ними установились такие взаимоотношения, которые она не могла позволить себе с Пакстон. Мать восхищалась сыном и очень уважала его. Джордж был хладнокровен, иногда до надменности, мог трезво смотреть на вещи, что и привело его в конечном счете в медицину. Беатрис нравились эти качества. Ее самолюбию льстило, что сын — врач, что он более светский человек, чем отец, и она по секрету говорила подругам, что сын напоминает ей отца, а тот был верховным судьей Джорджии, поэтому она уверена в большом будущем Джорджа. Будущее Пакстон представлялось матери более ординарным. Она поедет в школу, закончит ее, затем выйдет замуж и заведет детей. Этот путь не вдохновлял Беатрис, тем более что она его уже прошла. В свое время она по настоянию отца поступила в школу «Сладкий шиповник» и вышла замуж за Карлтона через две недели после выпуска. Беатрис не особо уважала женщин, хотя регулярно навещала подруг и активно работала в женских обществах. Мужчины — вот кто, по ее мнению, создан для великих дел. У матери не возникало сомнений, что эта милая белокурая девочка, трогающая своими грязными ручками все подряд, ничем не прославится.
Голос Уолтера Кронкайта невнятно доносился из школьного телевизора, в который молча уставились Пакстон и все ученики и учителя школы. Каждые несколько минут Кронкайт давал репортаж с места событий. Журналисты толпились у ограды госпиталя «Паркленд мемориал», где шла борьба за жизнь президента.
— У нас нет ничего нового для вас до сих пор, — сказали с экрана. — Все, что мы знаем, — состояние президента критическое, в последние минуты бюллетеней о его здоровье не появлялось.
Кто-то из учителей дотянулся до телевизора и переключил на другой канал; в этот момент Чет Хантли говорил то же самое.
Страх запечатлелся на лицах. Снова Пакстон вспоминала Джорджа, который забрал ее из школы и по дороге рассказал о крушении самолета. Пакстон больше ни о чем не спрашивала у него — в глазах Джорджа не было надежды. Джордж только окончил медицинскую школу в госпитале «Грейд мемориал» в Атланте. Завершить образование он решил на Юге, недалеко от дома, хотя отец, выпускник Гарвардского университета, советовал ему поехать туда.
Беатрис хотела оставить Джорджа поближе к дому, кроме того, она говорила, что необходимо поддерживать образовательные институты Юга.
Пробило два часа. Пакстон стояла, не дыша в углу учительской и молилась, чтобы с ним все было хорошо. Слезы наворачивались на глаза, и она не понимала, о ком плачет — о президенте или о своем отце. Отец умер на следующий день после аварии, раны были слишком тяжелы. Рядом с ним были жена и сын, Пакстон оставили дома с Квинни. Они решили, что в одиннадцать лет она мала для того, чтобы идти в госпиталь, тем более что отец так и не приходил в сознание. Больше она его не видела. Он ушел со всей своей теплотой, любовью, мудростью, знанием людей, истории и всего остального, выходящего за пределы города Саванны. Он был настоящим джентльменом-южанином старой закваски, натура которого не вмещается в рамки, предначертанные при рождении. Эту широту и любила в нем Пакстон.
Это и еще многое другое: как он ловил ее и крепко прижимал к себе, когда она бежала ему навстречу, их длительные прогулки и разговоры обо всем на свете — о войне, о Европе, о том, как замечательно было бы вместе поехать в Гарвард. Она обожала его голос и запах одеколона, оставляющего след свежести в комнате, когда он проходил мимо. И как он щурил глаза, улыбаясь, и как он говорил, что гордится ею… Она почувствовала, что это она умерла, когда в церкви запел хор и Квинни так громко зарыдала на последней скамье, что Пакстон услышала ее со своего места между Джорджем и матерью.
Ее жизнь так и не вернулась в обычное русло после смерти отца. Будто бы большая часть ее ушла вместе с ним, та, которая привыкла вдыхать запах первых полевых цветов и в субботу приходить к нему утром в офис, если случалась работа в выходной. Ушла возможность разговаривать с ним так, как будто она уже много понимала в этом мире, и задавать ему любые вопросы. У Пакстон была удивительная способность чувствовать людей, она даже однажды сказала отцу, что не верит в любовь матери. Тогда, правда, это ее не очень волновало. У нее были Квинни и отец.
— Я думаю, ей нужен кто-то похожий на Джорджа… Он не раздражает ее и разговаривает о том, что ее действительно волнует, — о светской жизни. Он из тех людей, которые нравятся ей. Как ты думаешь, папа? Иногда я говорю ей, что люблю что-то, а ее это пугает. — Пакстон скорее чувствовала, чем знала это, а Карлтон Эндрюз знал; но старался не разговаривать об этом с дочерью.
— Она просто выражает свои чувства не так, как ты или я, — оправдывал он жену, усаживаясь в старое уютное кожаное кресло, на котором Пакстон любила раскрутиться до самого верхнего упора, до тех пор пока оно не угрожало слететь с резьбы. — Но это не значит, что у нее их нет. — Он чувствовал себя обязанным защищать жену, даже от Пакстон, хотя слова дочери были правдой.
Беатрис была холодна как лед. Обязательная, терпеливая, «хорошая жена» в своих собственных глазах. Она прекрасно вела домашнее хозяйство, была вежлива и добра к нему, никогда не обманывала, не кричала и тем более не изменяла — она была истинной леди. Но, как и Пакетом, он хотел знать, любила ли она кого-нибудь, кроме Джорджа, ведь даже с сыном она соблюдала приличествующую дистанцию. Как бы ни был Джордж похож на нее, он не мог ждать большей теплоты. Карлтон и Пакстон, как ни старайся, не получили бы и этого. — Она любит тебя, Пакс.
Как только отец произнес это, Пакстон поняла, что это ложь ради ее спокойствия. Она еще не знала, на что способна любящая женщина; Карлтон Эндрюз имел об этом куда более ясное представление.
— Я люблю тебя, папа. — Она бросилась к нему на шею, отметая все раздумья и сомнения. Она ничего не скрывала от него.
Отец рассмеялся, потому что дочь чуть не столкнула его с кресла.
— Эй, я сейчас окажусь на полу твоими стараниями! — Он давно мечтал, чтобы она поступила в Рэдклифф[2], и, обнимая ее, представлял красивой девушкой, своей гордостью на склоне лет.
Она росла именно такой дочерью, о которой он мечтал: любящей, душевной, заботливой. Пакстон была очень похожа на него.
А потом он ушел, и Пакстон осталась одна, правда, у нее еще была Квинни. Она усердно училась и читала книги все свободное время. Иногда Пакстон писала письма отцу, как будто он путешествовал и она могла посылать ему письма почтой, только вот ответы не приходили. Некоторые она действительно отправляла, остальные просто носила с собой. Сама возможность писать очень помогала ей в одиночестве. Так она продолжала разговор с отцом, тем более что в какой-то момент совсем перестала разговаривать с домашними.
Мать, казалось, вздрагивала от самого звука ее голоса и как бы отталкивала от себя все то, что говорила Пакстон. Временами Пакси чувствовала себя пришелицей с далекой планеты. С матерью они были различны во всем, и Джордж тоже был из другого лагеря. Он убеждал Пакстон понять мать, вести себя «прилично», быть рассудительней и помнить, кто она такая. Это ее окончательно ставило в тупик. «Кто она такая»? Кого ей слушать: свое сердце или их убеждения? В глубине души у нее не было сомнений. Она знала, что отцовская безграничная любовь к миру — единственный приемлемый путь и для нее тоже. К тому времени, когда Джордж закончил стажировку в «Грейд мемориал», Пакси исполнилось шестнадцать и она решила уехать на Север, чтобы поступить в Рэдклифф.
Мать хотела, чтобы она поступала в школу Агнесс Скотт, или Мэри Болдоуин, или в «Сладкий шиповник», где училась сама, или, в крайнем случае, к Брин Мавр. Желание Пакстон поступить в Рэдклифф казалось ей просто смешным:
— Чего ради тебе ехать в северные школы? Здесь у нас есть все, что нужно. Посмотри на своего брата. Он мог поступить в любую школу страны, но остался здесь, в Джорджии.
При этих словах Пакстон чувствовала приступ клаустрофобии. Она желала вырваться из круга знакомых матери, их идей, рассуждений об «ужасах десегрегации». Проблема гражданских прав — вот что волновало Пакстон, и она обсуждала это с друзьями в школе и вполголоса с Квинни на кухне. Няня придерживалась старых взглядов, считала, что черные должны оставаться там, откуда они родом. Мысль о смешении и уравнивании в правах белых и черных пугала Квинни, только ее дети или внуки могли думать об изменениях в этой области. Пакстон доказывала, что понятия, внушенные ей с самого детства, были не правильными, и писала о реформе в школьных сочинениях.
Отец разделил бы ее убеждения. Пакстон старалась не говорить на эту тему с родными, но осенью ей пришлось выбирать колледж. Она написала в полдюжины северных школ и в две в Калифорнии: Вассар, Веллесли, Рэдклифф, Смит, Вест, Станфорд и Беркли. Она не хотела учиться в школе для девочек, Рэдклифф был ее настоящей мечтой. Она обратилась в западные школы, потому что разум подсказывал сделать это. Но в конце концов, чтобы успокоить мать, написала и в «Сладкий шиповник». Подруги матери постоянно говорили, как будет хорошо, когда она поступит туда, — будто вопрос о ее поступлении давно уже был решен.
Сейчас она не могла об этом думать. Взгляд упал на часы.
Было всего два часа — полчаса прошло с тех пор, как стреляли в президента Кеннеди, и десять минут, как они смотрят телевизор в ожидании новостей, пока весь народ молится, а его семья чувствует то, что Пакстон испытывала шесть лет назад.
В 2.01 Уолтер Кронкайт посмотрел прямо в камеру и с искаженным лицом сказал американцам, что президент умер. По маленькой комнатке в школе в Саванне сначала пронесся глухой вздох, а потом рыдания. Плакали все; учителя и ученики, обнявшись, бессвязно спрашивали друг друга, как это могло произойти. Уолтер Кронкайт продолжал вести передачу и брал интервью у врачей. Пакстон показалось, что она словно погружается в воду: все вокруг замедлялось и отдалялось — плачущие люди, экран телевизора. Она почувствовала на щеке слезу, потом возникло ощущение духоты, как если бы кто-то выкачал весь воздух, и теперь она никак не могла глубоко вдохнуть. Боль и тоска навалились на нее — она как будто снова теряла отца. Ему было пятьдесят семь. Джону Кеннеди всего сорок шесть, оба ушли в расцвете сил, полные идей и жажды жизни, у обоих были семьи и по двое детей, очень их любивших. Джона Кеннеди оплакивал весь мир, Карлтона Эндрюза — только его близкие. Для Пакстон сейчас это не имело значения: она знала, что чувствовали его дети — ужасающую тоску, утрату и гнев. Это было так больно, так несправедливо! Кто мог совершить подобное?
Как слепая, она, не сказав никому ни слова, вышла из школы, не заметив, как пробежала мимо домов на Хаберсхам. Очнулась, лишь войдя в прихожую, с хлопком двери, волосы ее растрепались от бега, и в этот момент она была очень похожа на отца в детстве — те же белые кудри, огромные зеленые глаза, в которых всегда стоял вопрос. Бросив сумку с книгами, вся в слезах, она поспешила на поиски Квинни.
Квинни напевала что-то на кухне, и было видно, что готовка доставляет ей удовольствие. Начищенная до блеска посуда в особом порядке развешана над плитой. Соблазнительный запах выпечки разносился по дому. Квинни удивленно обернулась, заметив рядом Пакстон с бледным лицом и полными слез глазами.
Девочка была просто олицетворением горя.
— Что случилось, детка?. — забеспокоилась няня и, бросив все, подошла к девочке, которую вырастила и любила больше всех на свете.
— Я… — Пакстон потеряла дар речи. Она не знала, с чего начать. — Ты смотрела сегодня телевизор?
Квинни хотела было вымыть руки, но пожала плечами и посмотрела непонимающе на Пакси.
— Нет, твоя мать сдала кухонный телевизор в ремонт, он сломался неделю назад. Я никогда не смотрю телевизор в гостиной. — Она совсем растерялась. — А что? Что-то произошло в Саванне?.. Или с мистером Джорджем, с миссис Эндрюз?
Или с детьми… — Квинни подумала о многом. «Может быть, это одна из этих ужасных демонстраций?» Но она никак не могла предположить ответа Пакстон.
— В президента Кеннеди стреляли.
— О моя земля. — Квинни села на ближайший стул в состоянии, близком к шоку. В глазах ее был молчаливый вопрос.
— Он умер. — Пакстон опять начала рыдать, уткнувшись в плечо Квинни.
Это ужасное чувство утраты, растерянности перед горем легче пережить вместе, и они вдвоем плакали о человеке, которого никогда в жизни не видели, кроме как по телевизору… Он был так молод, так знаменит. За что? Что за ненависть двигала убийцами? Ради чего они это сделали? И почему именно его?
Его, молодого мужчину с двумя маленькими детьми и красавицей женой, полного сил и надежд переустроить страну, помочь людям. Пакси плакала на руках Квинни, и та раскачивала ее, как маленькую, и сама плакала о мужчине, которого не знала, но верила, что он — хороший человек.
— Это правда, детка? Я никак не могу поверить. Почему же это случилось? Уже знают, кто стрелял?
— Вряд ли.
Но когда они пришли в гостиную и включили телевизор, там были свежие новости. Мужчина по имени Ли Харви Освальд убил полицейского, пытавшегося его задержать в помещении книгохранилища, откуда в половине второго были сделаны роковые выстрелы по кортежу президента. Освальд был арестован по подозрению в убийстве президента, полицейского и агента секретной службы. Кроме того, им был ранен губернатор Техаса Джон Кониэли, но, слава Богу, не смертельно. Тело президента уже перевозили в Нью-Йорк в самолете Военно-воздушных сил США. На борту были также его вдова, новый президент и миссис. Джонсон, его жена. Ранее поступило сообщение, что Джонсон тоже ранен, но это оказалось слухом. Народ был в шоке, Пакстон и Квинни молча стояли у телевизора, все еще не веря услышанному. Так их и застала, войдя в комнату, мать Пакстон, вернувшаяся от своего парикмахера, которого посещала по утрам в пятницу. Миссис Эндрюз услышала новость в парикмахерской и теперь присоединилась к дочери и Квинни в мрачном настроении. Беатрис Эндрюз ополаскивала волосы, когда пришло первое сообщение о трагедии. Несмотря на шок, она Осталась закончить прическу и даже уговорила одну из девушек сделать ей маникюр, хотя многие мастера не смогли продолжать работу, а некоторые женщины ушли из парикмахерской с мокрыми волосами. Все были в слезах. Но миссис Эндрюз не хотела нарушить свои планы — на этот уик-энд перед Днем Благодарения у нее было много дел. Бридж-клуб давал в воскресенье обед. Ей и в голову не могло прийти, что все увеселительные мероприятия будут отложены в связи с трауром. Это как-то не доходило до нее — она пришла немного расстроенная, только и всего. Ей казалось, что дамы, убежавшие домой с незаконченными прическами, несколько преувеличивали свои переживания. Она-то знала, что такое горе, потеряв собственного мужа, но расстраиваться по поводу убийства общественного деятеля ей казалось излишним. Но остальные чувствовали такую боль от этой потери, как будто каждый был другом убитого президента. Он принес надежду многим, отдал свою энергию, чтобы люди обрели «американскую мечту». Его жену все воспринимали как сказочную принцессу.
Беатрис Эндрюз сначала стояла позади дочери и няни, затем села посмотреть, как Линдон Джонсон принимает присягу в штабе Военно-воздушных сил. При этом она не пригласила присесть Квинни. Камера показывала то судью Хьюза, распоряжающегося церемониалом принятия присяги, то Жаклин Кеннеди, стоящую позади него, и все видели, что она все еще в том розовом костюме, в котором была в момент убийства, и на нем остались следы крови. Ее лицо потускнело от тоски, и, казалось, она не видела, как Линдон Джонсон становился президентом. Пакстон медленно опустилась в кресло рядом с матерью. Слезы текли по ее щекам, она смотрела на экран, не в силах поверить в происходящее.
— Как он мог сделать это? — пробормотала Пакстон.
Квинни погладила ее по голове и, плача, ушла на кухню.
— Я не знаю, Пакстон. Говорят о заговоре. Но я не думаю, что кто-то сейчас в состоянии объяснить, почему это произошло. Я соболезную миссис Кеннеди и детям. Это тяжелый удар для них.
Слова матери снова заставили Пакстон вернуться к мыслям об отце. Хотя отец и не был убит, но умер так внезапно, что она до сих пор не привыкла к его отсутствию и, может быть, никогда не привыкнет. Конечно же, дети президента долго будут чувствовать утрату…
— Сейчас врем" чудовищной неразберихи, — продолжала мать, — все эти расовые беспорядки, реформы, которые он затеял… Возможно, это цена, которую он в конце концов заплатил. — Беатрис смотрела прямо перед собой, когда выключала телевизор, Пакстон попыталась заглянуть матери в глаза, желая узнать, правильно ли она поняла ее.
— Ты думаешь, это из-за гражданских прав? Ты думаешь, в них причина? — Пакстон вдруг разозлилась. Почему мать так думает? Она хочет все вернуть в средневековье. Почему они всю жизнь должны жить на Юге, если родились в Саванне?
— Я не утверждаю, что это причина, я говорю «возможно».
Нельзя перевернуть всю страну вверх дном, изменить традиции, которые создавались веками, и Не заплатить за это. Наверное, это плата, слишком большая…
Пакстон все еще не верила, но спор возникал не впервые.
— О каких традициях ты говоришь? О рабстве? Как ты можешь?
— Некоторые рабы раньше жили гораздо лучше, чем сейчас, когда они свободны и сами отвечают за себя.
— Бог мой!
Но миссис Эндрюз была убеждена в том, что говорила, и Пакстон знала это.
— Посмотри, на что они похожи в результате рабства! Они не умеют читать и писать, работают как волы. Их унижают, ограничивают в правах, они лишены того, что доступно нам, мама! — Она очень редко называла ее так, только когда была в отчаянии или очень взволнована и растеряна, как сейчас Но Беатрис Эндрюз не заметила этого.
— Может быть, они не в состоянии воспользоваться этими привилегиями, Пакстон. Я не знаю. Я только хочу сказать, что нельзя изменить мир за одну ночь без последствий.
Пакстон ничего не ответила. Она поднялась к себе, легла на кровать и плакала до вечера. Вечером на традиционный семейный обед приехал брат, и она вышла к ним с бледным лицом и опухшими от слез глазами.
Брат приезжал обедать каждые вторник и пятницу, если не мешала работа и у него не было особенно важных общественных дел, которые, по-видимому, случались не часто. Он придерживался тех же взглядов, что и мать, и только снисходительно улыбался, когда Пакстон выражала свое мнение, или заявлял, что ее взгляды с возрастом изменятся. Поэтому она так редко говорила с ним о политике, храня молчание и соблюдая уважительную дистанцию. Ей нечего было сказать им, хотя любые их попытки завести философские или политические споры выводили Пакстон из себя. Она оставляла свои мысли для школьных друзей, наиболее либеральных учителей или для сочинений. Когда Пакстон казалось, что Квинни поймет ее, она рассказывала что-то ей. Житейская мудрость пожилой негритянки восполняла недостаток образования, и ее неожиданные суждения порой делали беседы на кухне необычайно интересными для Пакстон. Она рассказала няне о колледжах, в которые собиралась написать, — пусть Квинни скажет, что она думает о ее планах. Квинни поняла без объяснений, почему Пакстон не хочет оставаться на Юге, и поддержала ее. Она огорчилась возможной разлуке, но знала, что так девочке будет лучше. Она слишком похожа на своего отца, чтобы оставаться здесь.
— Я думаю, что это кубинский заговор, — высказался за обедом по поводу убийства Джордж. — Я полагаю, что они найдут больше, чем предполагают найти, если будут копать вглубь.
Пакстон смотрела на него и соображала, есть ли какая-то доля правдоподобности в этой мысли. Брат был умный мужчина, хотя и не особенно тонкий. Большую часть времени он отдавал медицине, и ничего больше по-настоящему его не интересовало, истинное волнение он испытывал только тогда, когда речь шла о новых достижениях в области его специализации — выявления ранних стадий диабета. Ему исполнился тридцать один, год назад он был помолвлен, но помолвка была расторгнута. Пакси предполагала, что в этом виновата мать, хотя девушка происходила из семьи, с которой мать поддерживала знакомство. Беатрис не раз повторяла, что Джорджу еще рано жениться. Он должен утвердиться, продвинуться в карьере, прежде чем взвалить на себя заботу :о семье.
Пакетом вообще не нравились девушки, с которыми он общался. Все они были очень милы, но глупы и недалеки. За красивой оболочкой не было содержания, и любые попытки завести с ними серьезный разговор были бессмысленны. Последней, которую он привел на обед, устроенный матерью, было двадцать два года, и она прощебетала весь вечер. Она разъяснила всем, почему не пошла в колледж — у нее был ужасный аттестат и ей больше нравилось работать в Юниор-лиге. Она собиралась участвовать в показе мод, который должен состояться на следующей неделе, чего она с нетерпением ждет, — и об этом говорила целый вечер. Пакстон была готова задушить девушку, так раздражала ее эта болтливость и пустота, она не представляла, как Джордж выносит это. Девушка еще что-то рассказывала, выходя вместе с Джорджем из дома и садясь в машину, чтобы съездить куда-нибудь выпить по коктейлю. С тех пор Пакстон пребывала в уверенности, что будет ненавидеть ту, на которой Джордж женится. Она была уверена, !Что брат выберет в жены типичную южанку: слащавую, недалекую, но хорошо воспитанную особу. Пакстон тоже была южанкой, но только по месту рождения, и отнюдь не походила на идеал, который искал брат и который воплощала их мать. Большинство девушек здесь хотели бы играть в семье роль красавицы жены, что извиняло бы отсутствие знаний или просто глупость. Пакстон терпеть не могла подобных девиц, но брат не разделял ее мнения.
Пакстон так и не уснула ночью, ее мучило желание сопереживать происходящему. В три часа ночи она встала, включила телевизор и уселась в кресло. Она видела, как в 4.34 переносили гроб в Белый дом и миссис Кеннеди шла рядом с ним.
Следующие три дня Пакстон не отходила от телевизора. В субботу члены семьи и государственные деятели прощались с человеком, которого знали, любили, с кем вместе работали. В воскресенье гроб на лафете, запряженном лошадьми, перевезли в Капитолий.
Жаклин Кеннеди и ее дочь Каролина стояли на коленях перед гробом, маленькая девочка гладила американский флаг, которым он был задрапирован. На лицах читалось отчаяние. Потом Пакстон увидела, как Джек Руби застрелил Ли Освальда, когда того переводили в другую тюрьму, — на первый взгляд это была ошибка или недоразумение.
В понедельник весь день показывали похороны, и она непрерывно плакала от звуков траурного барабанного боя. Горе было бесконечным, боль не проходила, печаль казалась бездонной, даже мать выглядела потрясенной вечером в понедельник — за обедом они с Пакстон едва перемолвились словом. Квинни все время подносила платок к глазам, и Пакстон зашла к ней вечером поговорить. Она села в кресло и сначала совершенно бессмысленно наблюдала за Квинни. Потом спохватилась, помогла няне вытереть посуду и поставить ее на место. Мать пошла наверх звонить друзьям. И как всегда, ей нечего было сказать дочери, кроме как посоветовать успокоиться. Они были слишком далеки друг от друга.
— Я не знаю почему, но у меня такое чувство, как после смерти папы… будто я жду, что все станет по-прежнему. Что он может прийти домой в любую минуту и сказать, что все это не правда и он жив. Или Уолтер Кронкайт выйдет в эфир со своими новостями и скажет, что это была ошибка. На самом деле президент провел выходные на Пальмовом побережье с Жаклин и детьми, что они сожалеют, что расстроили нас… Но так не будет. Все продолжается, все по-настоящему. Это судьба…
Квинни покачала седой головой: ей было знакомо чувство, о котором рассказывала Пакстон.
— Я знаю, детка. Всегда так, когда кто-нибудь умрет. Ты сидишь и ждешь, чтобы кто-то сказал, что ничего не случилось.
У меня это было, когда я теряла своих малышей. Нужно много времени, чтобы справиться с горем.
Странным был День Благодарения в этом году. Трудно быть благодарным сумасшедшему, злому миру, который убивает людей задолго до отпущенного им срока. Нет, не до праздника… А каково сейчас семье Кеннеди? Для них, наверное, эти дни похуже, чем самые страшные ночные кошмары. Жаклин Кеннеди сама организовала и продумала похороны до мелочей, вплоть до листков, отпечатанных в канцелярии Белого дома. На них она собственноручно написала слова: «Господи, прими душу раба Твоего Джона Фицджералда Кеннеди», — и поместила отрывки из его инаугурационной речи. «Это был конец эры… конец времени, которое ушло и стало бесплотным прошлым… Факел перешел в руки нового поколения, которое подхватит его…» Но что теперь делать с этим факелом?
Квинни выключила свет на кухне и поцеловала Пакстон на ночь. Они остановились на минуту в темноте: старая и молодая, черная и белая; общая потеря объединяет людей, затем Квинни пошла в свою комнату, а Пакстон наверх в свою, чтобы в одиночестве подумать о том, что ждет их впереди. Девочка чувствовала себя в долгу перед убитым президентом, так же как она была в долгу перед отцом. Она должна что-то сделать ради них… что-то важное в своей жизни, достойное их памяти. Но что?
Она лежала и думала о принципах, которых они придерживались в жизни, во что верили. Одного она любила и очень хорошо знала, о мыслях другого могла только догадываться. Вдруг ее осенило. Она очень хотела начать самостоятельную жизнь и поступить в Гарвард, в котором они оба учились. Пакстон лежала с закрытыми глазами и обещала им сделать все, что в ее силах, чтобы они могли гордиться ею. Это будет оправданием перед ними, обещанием, которое она непременно выполнит. Она будет ждать весну и молиться о поступлении в Рэдклифф.