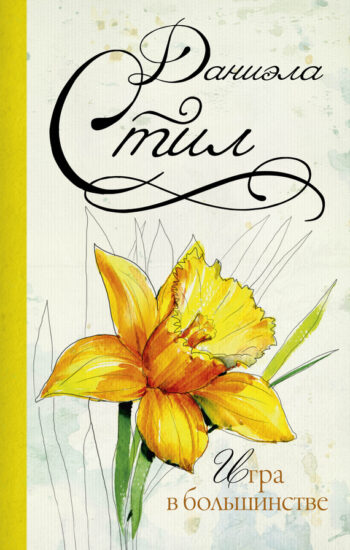- Изгнанная из рая, #2
О книге
Жизнь Габриэлы в доме своих богатых родителей — это смесь страха, боли и предательства, в этом мире ей негде ук рыться от одиночества Но семья распалась Мать отдает ее в монастырь и навсегда забывает о ней Понемногу израненная душа юной Габи начинает оттаивать Здесь, в монастыре, к ней приходит первая любовь Но еще не скоро она сможет избавиться от страшных призраков прошлого О том, как сложилась жизнь Габриэлы, вы узнаете из романа «Изгнанная из рая».
Глава 1
В коридоре громко тикали старинные напольные часы. Они прятались в высоком резном ящике красного дерева. Будь Габриэла (не Габи, а именно Габриэла) чуть поменьше, она тоже могла бы спрятаться в нем — за глухой дверцей, где ходил из стороны в сторону огромный, как луна, латунный маятник и чуть слышно звенели натянутые гирями цепи Но даже если бы ей удалось поместиться в часовом футляре, прятаться там все равно было рискованно — сухое, тонкое дерево, словно дека рояля, отзывалось гулким звоном на каждое прикосновение.
Чулан, битком набитый зимними куртками и шершавыми пальто, царапавшими Габриэле лицо при каждом движении, был гораздо более надежным.
Впрочем, даже здесь шуметь не стоило, но она не могла побороть страха, который потихоньку толкал ее к самой дальней стене чулана. Она запнулась о зимние сапоги матери и чуть не упала, но вовремя ухватилась за мохеровый жакет и удержалась на ногах. Габриэла была почти уверена, что здесь ее не найдут. Почти!.. Во всяком случае, когда в прошлый раз она спряталась здесь, все более или менее обошлось. Той, что ее искала, просто не пришло в голову заглянуть в этот душный и пыльный чулан. Габриэла очень надеялась, что и сегодня все кончится благополучно. Тем более что на улице стояла такая жара…
В Нью-Йорке был самый разгар лета, и в чулане было жарко, как в паровозной топке, но Габриэла почти не замечала этого. Забившись в самый дальний угол, она стояла совершенно неподвижно и напряженно всматривалась в пыльную темноту перед собой, едва осмеливаясь дышать. Вот за дверью послышались приглушенные, еще далекие шаги. Сердце девочки ухнуло в пустоту — шаги приближались. Твердые каблуки-шпильки звонко процокали по паркету у самой двери чулана, но Габриэле этот звук показался похожим на рев урагана. Она почти почувствовала на лице легкое шевеление воздуха, колеблемого там, за дверью, и… с облегчением вздохнула. Шаги удалялись.
Габриэла тихонько вздохнула и снова затаила дыхание, словно боясь, что даже этот тихий звук может выдать матери ее убежище. Элоиза Харрисон обладала поистине сверхъестественными способностями, которые позволяли ей с легкостью отыскивать дочь в самых невероятных местах. Порой Габриэле даже казалось, что у ее матери — нюх собаки и глаза, способные с одинаковой легкостью видеть и сквозь филенчатые двери чуланов, и сквозь каменные стены. Где бы Габриэла ни пряталась, в конце концов мать обязательно ее находила и наказывала, однако девочка упрямо не оставляла своих попыток.
Страх перед матерью был сильнее любых доводов разума.
В прошлом году Габриэле исполнилось шесть, но она была такой маленькой, хрупкой и худой, что никто бы не дал ей этих лет. В ее облике было что-то от сказочных эльфов: тонкие черты, огромные в пол-лица голубые глаза и мягкие светлые локоны, действительно производившие ощущение чего-то неземного, воздушного.
Люди, которые видели ее впервые, обычно говорили, что девочка — чистый маленький ангелочек. И лишь немногие замечали, что в глазах Габриэлы — в этих больших голубых озерах — где-то на самом дне никогда не исчезает страх. Она выглядела словно настоящий ангел, изгнанный с небес на землю и пребывающий в тревожном неведении, чего следует ожидать от своего нового, незнакомого окружения. Впрочем, что ждет ее, Габриэла отлично знала — за все шесть лет своей земной жизни девочке еще ни разу не пришлось столкнуться с тем, что могло бы быть приятно или хотя бы знакомо ангелу небесному. Страх и боль — постоянные спутники ее земной судьбы.
Острые и тонкие шпильки матери снова застучали почти возле самой двери чулана. На этот раз звук был гораздо более резким, сердитым, словно в паркет вгоняли стальные гвозди, и Габриэла поняла, что мать раздражена до предела. Наверняка она уже перерыла чулан в детской, обыскала кладовку под лестницей и стенной шкаф возле кухни. Пожалуй, и в небольшой сарай за домом заглянула. Там хранился садовый инвентарь. Возиться с землей мать Габриэлы не любила, и лишь поиски дочери могли заставить ее зайти в столь неподобающее место.
Обычно за крошечным садом ухаживал садовник-японец, приходивший дважды в неделю. Он косил траву на лужайке, подстригал кусты, белил стволы двух грушевых деревьев и высаживал на единственной клумбе белоснежные нарциссы, яркие тюльпаны и мохнатые хризантемы. Благодаря его усилиям сад выглядел как игрушка, и Элоиза имела возможность с гордостью показывать его гостям.
Надо сказать, что Элоиза вообще терпеть не могла беспорядка. Она ненавидела шум, грязь, ложь, собак, но больше всего она ненавидела детей, в чем ее дочь убедилась на собственном опыте. Элоиза Харрисон была твердо убеждена, что дети лгут, шумят, пачкаются, все портят и разбрасывают одежду. Ну и как же она могла к ним относиться, учитывая все вышесказанное; так что Габриэле строжайшим образом наказывалось тихо сидеть в комнате и ничего не трогать. Ей не разрешалось ни слушать радио, ни рисовать фломастерами, потому что от них на скатерти оставались трудновыводимые следы.
Однажды Габриэла испортила ими свой лучший наряд и получила серьезную трепку — мать отхлестала ее платьем по лицу и приказала выстирать его, хотя одежда и белье взрослых обычно отправлялись в прачечную или химчистку.
Это, впрочем, случилось еще тогда, когда ее отец был на войне в месте, которое называлось Корея. Где-то в глубине одного из стенных шкафов все еще хранилась его шинель — Габриэла обнаружила ее, когда в очередной раз пряталась от матери. Шинель была очень колючей, но пуговки на ней были такие красивые и блестящие, что немедленно хотелось взять их в рот. Габриэла до сих пор жалела, что папа не может ходить в шинели в свой банк. Но и без шинели он был достаточно красив.
Высокий, стройный, такой же голубоглазый, как Габриэла, и почти такой же светловолосый, он был похож на принца из сказки о Золушке, которую ей читала бабушка, когда была еще жива.
Впрочем, мать тоже напоминала девочке сказочную королеву. Элоиза была стройной, элегантной и очень красивой женщиной. Беда была в том, что она постоянно злилась на дочь, а вывести Элоизу из себя способны были любые пустяки. Ей не нравилось даже, как Габриэла ест. А если дочери случалось просыпать на стол несколько крошек или, не дай бог, опрокинуть стакан, Элоиза взрывалась, как тонна динамита. Да и вообще она привычно реагировала на каждое слово или действие дочери так, словно вся жизнь Габриэлы состояла из непоправимых поступков. Безнадежность царила в их отношениях: маленькая Габриэла никогда не могла угодить, взрослая Элоиза никогда не могла быть довольна.
Габриэла помнила требования матери все до единого и прилагала отчаянные усилия, чтобы не совершить ошибку, но это было невозможно. Даже если ей удавалось не повторить старых промахов, она непременно совершала новые. На самом деле Габриэла росла послушной и доброй девочкой; она вовсе не хотела огорчать маму, это получалось у нее как будто само собой. Словно назло матери, Габриэла то сажала на подол крошечное чернильное пятнышко, то роняла за завтраком вилку, то забывала в школе осеннюю шапочку из клетчатой шотландки.
Как ни старалась девочка объяснить, что она не нарочно, что этого никогда-никогда больше не повторится, это не помогало, и все завершалось, как обычно. Элоиза не ведала ни жалости, ни сомнений. Кроме того, обе они хорошо знали, что очень скоро Габриэла совершит новый непростительный промах, который потребует незамедлительного наказания. И, даже умоляя мать о прощении, девочка заранее была уверена, что она — плохая и непослушная и что ее гадкие руки обязательно выкинут что-то такое, от чего мамочка опять разозлится.
Стук высоких каблуков раздался у самой двери чулана, и девочка вздрогнула. Все поиски были почти закончены, непроверенным оставался только этот чулан. Пройдет еще несколько секунд, и мать обнаружит ее, вытащит на свет божий и… В панике Габриэла подумала, а что, если прямо сейчас выйти (иногда Элоиза говорила дочери, что если бы та не пряталась, то и наказание было бы мягче). Но нет — и это не принесет ей пользы.
К тому же девочка начинала понемногу догадываться — от того, прячется она или нет, на самом деле мало что зависит. Ведь несколько раз она пыталась признаться матери в том или ином проступке, не дожидаясь, пока та сама заметит сломанный карандаш или сбившийся носочек. Но, увы, Элоиза заявляла, что Габриэла слишком долго раздумывала, повторяя, впрочем, что все, конечно, было бы по-другому, обратись она к ней пораньше.
И вообще, добавляла Элоиза, доставая из гардероба узкий кожаный ремешок гадкого желтого цвета, все было бы, разумеется, по-другому, если бы Габриэла вела себя как следует и слушала, что ей говорят. Никто и не подумал бы наказывать ее, если бы она содержала в чистоте свою комнату, если бы не причмокивала во время еды и не гоняла по тарелке жареные бобы, которые так легко перепрыгивают через край и оставляют на скатерти жирные пятна.
Как мечтала Габриэла научиться вести себя как следует! Как было бы хорошо уметь сдерживаться и открывать рот только тогда, когда к ней обращаются! И еще не царапать башмаки во время короткой прогулки по их крошечному садику! И еще… Да что там говорить: список проступков и промахов Габриэлы был поистине бесконечен. Ей никак не удавалось научиться вести себя так, чтобы гадкий желтый ремешок, с противным свистом опускавшийся на ее крошечный задик, на спину, на плечи, на голову, остался без работы (впрочем, все чаще и чаще, придя в ярость, Элоиза лупила ее чем попало, не давая себе даже труда дойти до гардероба). С каждым днем Габриэла все больше утверждалась в мысли, что она — непослушный, отвратительный, гадкий ребенок, который только и делает, что расстраивает родителей.
Девочка искренне верила: отец и мать просто не могут любить ее, пока она поступает подобным образом. Она — их разочарование, их позор, и это причиняло ей ни с чем не сравнимые страдания. Она готова была сделать все, что угодно, чтобы изменить это. О, как она хотела добиться одобрения родителей, завоевать их любовь, но все — тщетно. Во всяком случае, мать ни на минуту не позволяла дочери забыть о том, что она — скверная, непослушная, гадкая девчонка.
На этот раз перед дверью чулана звук шагов замер. На мгновение воцарилась мертвая тишина, потом дверь с резким скрипом распахнулась, и в глубину чулана, где скорчилась Габриэла, проник тонкий, прямой лучик с пляшущими в нем пылинками. Чулан сразу заполнился тяжелым запахом духов Элоизы, потом пальто и куртки с шуршанием раздвинулись, и уже настоящий поток солнечного света хлынул внутрь.
В первое мгновение Габриэла зажмурилась, но тотчас же снова открыла глаза и встретилась взглядом с матерью.
Никто из них не издал ни звука, не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Элоиза была в бешенстве, и Габриэла мгновенно поняла, что плакать или оправдываться бесполезно, и все же ее огромные голубые глаза невольно наполнились слезами.
Гнев в глазах Элоизы разгорался все ярче. Она схватила дочь за локоть и с такой силой рванула на себя, что ноги девочки чуть не оторвались от земли. В следующую секунду Габриэла уже стояла возле матери и, зажмурившись, ожидала неминуемого наказания.
Первая же затрещина оказалась такой сильной, что Габриэла упала. Казалось, весь воздух разом вырвался из ее легких; она не могла ни вскрикнуть, ни заплакать.
Мать, схватив ее за шиворот, рывком поставила на ноги.
Яростно встряхнув Габриэлу, она отвесила дочери такую крепкую пощечину, что в ушах у нее зазвенело, а перед глазами вспыхнуло и погасло красно-оранжевое зарево.
— Ты снова прячешься, негодяйка! — взвизгнула Элоиза. Она была высокой, сухощавой женщиной с правильными, аристократически-тонкими чертами лица, обычно отличавшимися одухотворенной, почти божественной красотой. Обычно, но не сейчас. Сейчас Элоизой владело безумие. Она казалась почти безобразной.
— Отвечай! — рявкнула она, наотмашь ударяя дочь по другой щеке.
На руке Элоизы было два перстня с крупными голубыми сапфирами, подобранными в тон ее дорогому шелковому платью темно-синего цвета. Драгоценности до крови рассадили щеку Габриэлы, но мать этого даже не заметила, как никогда не замечала ни разбитых губ, ни синяков и ссадин, остававшихся после очередного наказания. Вот и теперь, вместо того чтобы остановиться, она изо всей силы ударила Габриэлу по уху и, тряся за плечи, заорала прямо в перекошенное страхом маленькое личико:
— Почему ты вечно прячешься, мерзавка? Почему с тобой столько проблем? Что ты натворила на этот раз?!
Ведь ты опять что-то натворила, да? Иначе зачем бы тебе прятаться?!
— Я ничего не делала" мама… Ничего такого, — голос Габриэлы был чуть слышным. Удары, которые только что на нее обрушились, напугали ее чуть не до потери сознания и заставили ее маленькое сердце замереть, словно из него вдруг ушла вся жизнь.
Габриэла подняла на мать умоляющие, полные слез глаза:
— Прости меня, мамочка. Я никогда больше не буду.
Мне очень стыдно, что я…
— Тебе? Стыдно?!! Да тебе никогда не бывает стыдно.
Ты просто сводишь меня с ума, мерзкая девчонка! Откуда у тебя эта идиотская привычка прятаться по углам?
Или ты надеешься, что я тебя не найду? — Элоиза закатила глаза. — Боже мой, если бы кто-нибудь знал, что нам с твоим отцом приходится терпеть! Это же не ребенок, а какое-то наказание!
С этими словами она так сильно толкнула Габриэлу, что девочка заскользила по навощенному паркету и упала… увы, недостаточно далеко, чтобы туфля из голубой замши — изящная, модная лодочка на высоком каблуке и с острым мыском — не сумела до нее дотянуться. Удар пришелся прямо в верхнюю часть худенького бедра девочки, которое тотчас же пронзила острая боль.
Габриэла закусила губу, чтобы не, вскрикнуть. Самые страшные удары ее мать всегда наносила по закрытым частям тела, чтобы никто из посторонних не заметил багрово-черных кровоподтеков. Синяки на лице Габриэлы исчезали обычно довольно быстро — можно было подумать, Элоиза отлично знала, куда и как бить, чтобы не оставлять следов, и, несмотря на всю свою кажущуюся ярость, умело рассчитывала силу удара. Впрочем, вероятно, все дело было в богатой практике. Единственный метод воспитания дочери, признаваемый Элоизой, — это беспрестанное битье за любую провинность с самого раннего возраста. Габриэла, во всяком случае, не помнила того времени, когда бы ей не угрожали порка или оплеуха.
Она лежала на полу и молчала, хорошо зная, что, если попытается что-то сказать или подняться, все начнется сначала. Лучше тихо лежать и не привлекать к себе внимания. Может быть, обойдется. Она морщилась от боли, но изо всех сил старалась не плакать. От одного вида ее слез Элоиза могла снова прийти в неистовство. Глядя в пол на тонкую щелку между паркетинами, Габриэла мечтала: ах, если бы она могла стать маленькой, как муравей, чтобы проскользнуть в эту щель и укрыться от гнева матери!..
— Ну-ка вставай! Хватит валяться! — За этим резким окликом последовал сильный рывок, и Габриэла в одно мгновение оказалась на ногах. Уклониться она не посмела, и от нового удара в голове загудело, как в трубе парового отопления.
— Ты мерзкая девчонка, Габриэла! — отчеканила Элоиза. — Мало того, что ты отвратительно себя ведешь, ты опять вся перемазалась. Взгляни на себя, на что ты похожа!..
При виде этой милой заплаканной мордашки, пусть она и была слегка замурзана, сердце сжалось бы от жалости. Но только не у ее матери… Элоиза Харрисон целиком принадлежала холодному и злому миру собственного детства. Когда-то родители попросту бросили ее, отправив в Миннесоту к двоюродной тетке по матери.
Старая дева жила затворницей, не желая ни видеть, ни знать своих ближайших соседей. Она почти не разговаривала с маленькой Элоизой, считая, что для развития девочки куда важнее собирать побольше хвороста для растопки или сгребать снег с дорожек у дома, когда зима выдавалась холодной.
Детство Элоизы пришлось на годы Великой депрессии; ее родители потеряли почти все свои деньги и уехали в Европу. Там можно было как-то прожить на те крохи, что у них еще оставались. Всю свою любовь мать и отец отдали старшему брату Элоизы Филиппу, умершему от дифтерии; а дочь оказалась совершенно им не нужной. Они решительно выбросили ее из своей жизни и забыли об этом.
Элоиза жила в Миннесоте до тех пор, пока ей не исполнилось восемнадцать. Потом переехала в Нью-Йорк к троюродной сестре и там встретила Джона Харрисона, который когда-то был приятелем Филиппа. Его родителям повезло — их состояние почти не пострадало во время депрессии, и через полтора года ухаживаний Элоиза вышла за него замуж. Ей было двадцать два года.
Учитывая обстоятельства, партия была неплохая. Джон родился в богатой семье с традициями, получил блестящее образование. Правда, как выяснилось, ему не хватало честолюбия и силы характера. Благодаря связям отца Джон получил неплохую должность в банке, однако карабкаться выше не спешил. Когда он встретил подросшую сестру своего друга, то был просто ослеплен ее красотой. Любовь, вспыхнувшая в его груди с небывалой силой, заставила Джона встряхнуться; во всяком случае, взаимности Элоизы он добивался с настойчивостью и энергией, каких не проявлял ни до, ни после того.
Юная Элоиза была настоящей красавицей, хотя уже в те времена характер ее был не сахар. Но даже недостатки ее сводили Джона с ума. Он умолял, унижался, валялся у нее в ногах, осыпал знаками внимания, но чем сильнее он старался, тем холоднее и отчужденнее становилась дама его сердца. Джону потребовалось почти два года, чтобы убедить Элоизу стать его женой. Когда же она наконец согласилась — не то от скуки, не то ей просто надоела его настойчивость, Джон готов был прыгать до потолка. Он купил Элоизе чудесный городской дом с садом и начал водить ее на приемы, где собирался весь высший свет Нью-Йорка. Он так гордился своей красавицей-женой, что с его лица не сходила идиотски-счастливая улыбка, которая очень скоро стала раздражать Элоизу.
Джон очень хотел детей, однако это совершенно не входило в планы Элоизы. Каждый раз, когда он заводил речь о сыне или о дочке, она отвечала, что еще не готова. Нужно же ей в конце концов время, чтобы освоиться со своей новой ролью жены и хозяйки дома! Но это была только половина правды. На самом деле Элоиза просто не хотела иметь детей, поскольку воспоминания о собственном безрадостном детстве были слишком свежи в ее памяти. Кроме того, в ее голову было навсегда заложено: любой ребенок — это обуза, тяжкий крест и вообще несчастье всей жизни. Джону понадобилось еще два года, чтобы уговорить жену. Для него это значило так много, что Элоиза в конце концов махнула рукой и уступила.
О, как она пожалела о своем решении! Как она проклинала Джона за его тупое упрямство, а себя — за легкомыслие! Со второго по восьмой месяц Элоизу беспрестанно рвало. Роды обернулись сплошным кошмаром, который — она знала — она будет помнить всю жизнь и никогда не решится повторить. Она была совершенно уверена, что ребенок, какой бы он там ни оказался, не стоит ни дня из девяти месяцев непрерывных страданий, ни одной секунды из двенадцати часов непрерывной, разламывающей боли, которую она испытывала во время родов.
Ее сразу стало безмерно раздражать то внимание, которое Джон уделял дочери. Раньше муж принадлежал Элоизе безраздельно; теперь же, казалось, он только и думает о том, тепло ли маленькой Габриэле, сыта ли она, сменили ли ей пеленки, и о прочих глупостях. Когда Джон впервые спросил Элоизу, заметила ли она, какой очаровательной становится их дочь, когда улыбается, она чуть не завизжала от злобы. Этот мерзкий несмышленыш забирал у нее то единственное, что как-то примиряло ее с замужеством, — безграничное восхищение Джона. Да и вообще с рождением Габриэлы Джон на глазах превращался в слюнявого, сентиментального болвана. И чем больше росли его обожание и восторг, тем сильнее Элоиза ненавидела дочь. Каждый раз, когда Джон заводил речь о том, как Габриэла похожа на нее, ей хотелось затопать ногами, треснуть его чем-нибудь тяжелым, задушить своими руками это отродье. В общем, любыми способами вернуть то почти золотое время, когда не было, не было, не было этой ужасной помехи в ее жизни.
Едва оправившись от родов, Элоиза поспешила вернуться к своим излюбленным занятиям, пытаясь сделать вид, что ничего не изменилось. Она разъезжала по магазинам, посещала чаепития и ужинала с друзьями. Дочь ее абсолютно не интересовала. Напротив, по вечерам Элоизе все чаще хотелось уйти из дома, чтобы не слышать изматывающего душу писка Габриэлы и идиотского сюсюканья Джона. Дамам, с которыми она каждую среду играла в бридж, Элоиза откровенно признавалась, что возиться с ребенком ей и скучно, и противно.
Подобная откровенность не только не шокировала ее партнерш, но даже казалась им забавной. Элоизу они считали большой оригиналкой — им и в голову не могло прийти, что она действительно ненавидит дочь. Но Элоиза говорила совершенно серьезно. С самого начала она не только не испытывала к Габриэле никаких материнских чувств, но и считала ее непрошеным гостем, агрессором, который вторгся в ее жизнь и угрожал ее безмятежному и беззаботному существованию.
Джон видел все это, однако ему казалось, что со временем Элоиза сумеет полюбить дочь. Некоторые люди, утешал он себя, просто не умеют общаться с младенцами, побаиваются их, и оттого им кажется, будто они не любят детей. Однако он был уверен, что рано или поздно положение непременно изменится. Стоит только Габриэле немного подрасти, и Элоиза осознает, что за прелестное создание живет теперь в их доме.
Однако этот день так никогда и не настал. Когда Габриэла начала сначала ползать, а потом и ходить по всему дому, хватая всякие понравившиеся ей вещи и сбрасывая с кофейного столика вазочки и пепельницы, она едва не свела свою мать с ума.
— Боже мой! — восклицала Элоиза, хватаясь за голову. — Ты только погляди, что опять натворил этот проклятый ребенок! Просто прирожденный бандит — все портит, все ломает. Кругом грязь. Я не могу так жить!
— Но она же еще совсем крохотная, Эл! — пытался возражать Джон, подхватывая Габриэлу на руки. Он дул ей в лицо или щекотал животик двумя пальцами, отчего девочка заливалась звонким смехом.
— Прекрати сейчас же этот шум, — немедленно повышала голос Элоиза, с отвращением глядя на мужа. В отличие от Джона она брезговала даже прикасаться к дочери, не говоря уже о том, чтобы купать или, не дай бог, менять пеленки. Няня, взятая специально для того, чтобы ухаживать за Габриэлой, быстро поняла это и поделилась своими наблюдениями с Джоном. «Ваша жена ревнует вас к девочке», — сказала она, но он ей просто не поверил. Это заявление показалось ему нелепым и смешным, однако со временем он начал склоняться к мысли, что нянька была в чем-то права. Каждый раз, когда он брал дочь на руки или разговаривал с ней, Элоиза начинала раздражаться и сердиться без всякой видимой причины.
Когда Габриэле исполнилось два года, Элоиза начала бить ее по рукам каждый раз, когда девочка тянулась к какой-нибудь безделушке. Кроме того, она перестала пускать дочь в спальню и гостиную; место ребенка — в детской и только в детской.
— Не можем же мы все время держать ее под замком, — сказал однажды Джон, когда, вернувшись с работы, в очередной раз обнаружил, что Габриэла заперта в детской.
— Можем и должны! Иначе она все здесь перепортит и переломает, — твердо заявила Элоиза и сердито нахмурилась. Опасаясь ее гнева, Джон только покачал головой. Он еще надеялся, что все изменится.
В другой раз он довольно неосторожно заметил, какие у Габриэлы чудесные льняные локоны. Лицо Элоизы потемнело от гнева, но она ничего не сказала. Зато на следующий день Габриэлу впервые в жизни постригли. Элоиза сама отвезла дочь в парикмахерскую Беста, где Габриэла лишилась своего украшения. Когда же Джон выразил свое удивление по поводу ее короткой, как у мальчика, стрижки, Элоиза заявила, что это полезно для здоровья девочки.
На новую ступень соперничество между Габриэлой и Элоизой вышло тогда, когда девочка перестала лепетать и начала говорить осмысленными фразами. Особенно Элоизу бесило, как Габриэла с визгом несется по коридору встречать вернувшегося с работы папу. Если в этот момент ей на дороге попадалась мать, Габриэла, словно почувствовав опасность, огибала ее по широкой дуге, однако это редко спасало ее от окрика. Если Джон играл с девочкой или читал ей вслух книжки, Элоизе стоило огромных трудов сдержать себя и не придушить маленькую мерзавку. Ее нельзя баловать — таково было мнение Элоизы, которое она не раз высказывала мужу. Когда он, в свою очередь, упрекнул ее в том, что она почти не уделяет Габриэле внимания, Элоиза только фыркнула.
С этого дня в отношениях между ней и Джоном появилась первая трещина, которая быстро росла и вскоре превратилась в широкую и глубокую пропасть. Элоиза буквально выходила из себя, когда он принимался пускать слюни по поводу того, какая у них миленькая дочка.
Она считала, что это не по-мужски и что отец, так носящийся с дочерью, не может вызывать ничего, кроме отвращения.
Первую серьезную трепку Габриэла получила в три года, когда за завтраком случайно уронила на пол тарелку. Элоиза сидела рядом с ней, нервно прихлебывая утренний кофе. И не успела злосчастная тарелка долететь до пола и разбиться, как Элоиза с размаху ударила дочь по лицу.
— Не смей никогда больше так делать, ясно?! — взвизгнула она.
Габриэла была так потрясена, что даже не заплакала.
Она только сидела и смотрела на мать широко раскрытыми голубыми глазами. Девочка была в шоке.
— Тебе ясно? Отвечай! — заорала Элоиза, у которой лицо пошло красными пятнами.
— Прости меня, пожалуйста, мамочка… — в конце концов прошептала девочка.
Джон, только что вошедший в столовую, был так потрясен безобразной сценой, что даже не попытался вмешаться. Вместо этого он застыл на пороге, словно соляной столп. Джон еще никогда не видел Элоизу в таком гневе и подумал, что если он попытается защитить девочку, то только сделает хуже. Гнев, ревность, разочарование, скопившиеся в Элоизе за три года, вырвались наружу, и она бушевала, как вулкан.
— Если ты еще раз позволишь себе что-то подобное, Габриэла, я тебя выдеру! — с угрозой прошипела Элоиза и, схватив девочку за плечи, тряхнула с такой силой, что у Габриэлы лязгнули зубы. — Ты — мерзкая, непослушная девчонка, а непослушных детей никто не любит. Даже их папа и мама!
Габриэла судорожно сглотнула и, с трудом оторвав взгляд от перекошенного лица матери, перевела взгляд на отца, который все так же стоял в дверях. Но Джон молчал. Он боялся что-то сказать или сделать, чтобы не разозлить Элоизу еще больше.
Элоиза тоже увидела Джона. Не говоря ни слова, она выволокла дочь из-за стола и отвела в детскую.
— Без завтрака, — вынесла она окончательный приговор и ушла, на прощание наградив плачущую девочку увесистым шлепком по заду.
— Не слишком ли сильно ты ее наказываешь? — тихо спросил Джон, когда Элоиза вернулась в столовую, чтобы закончить завтрак. — Ведь ей только недавно исполнилось три.
У Элоизы, наливавшей себе вторую чашку кофе, сильно тряслись руки, и Джон решил, что она раскаивается, но он ошибся. Просто припадок ярости еще не прошел.
— Если ее не наказывать, — отрезала она, — из нее вырастет малолетняя преступница. Детям нужна дисциплина.
— Но, может, не такая жесткая… — неуверенно начал Джон и замолчал. Его собственные родители были мягкосердечны. Внезапное бешенство Элоизы не на шутку испугало его. Вместе с тем, с тех пор как родилась Габриэла, Элоиза сильно переменилась. Она постоянно нервничала, раздражалась, сердилась по пустякам. И хотя со своей мечтой о большой, счастливой семье Джон уже давно расстался, Элоизу ему терять не хотелось.
— Не такой уж это ужасный проступок, — проговорил он как можно спокойнее. — В конце концов, она сделала это не нарочно.
— Не нарочно?! — взвилась Элоиза. — Да она просто швырнула тарелку на пол! Я видела это своими собственными глазами. Ей всего три года, а она уже становится неуправляемой. Все начинается с капризов, Джон.
— Но что, если это не каприз? Может быть, она заболевает… — сказал Джон и осекся. Все его попытки как-то защитить Габриэлу только ухудшали дело. Лицо Элоизы снова покраснело и сделалось злым.
— Воспитывать Габриэлу — моя задача, — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Девчонка совсем отбилась от рук, надо ее приструнить. И, будь добр, не вмешивайся. Я же не лезу в твои дела!
С этими словами Элоиза пулей вылетела из столовой, так и не допив свой кофе.
С этого дня Элоиза действительно с пугающим рвением взялась за Габриэлу. Не проходило и дня, чтобы девочка не совершила какого-нибудь проступка, который вознаграждался немедленной пощечиной, оплеухой, шлепком. Именно в этот период из пыльных глубин старого гардероба появился узкий желтый ремешок из толстой свиной кожи, который Элоиза все чаще и чаще пускала в дело. Запачканное платье, зеленые травяные пятна на коленях, царапина на руке, оставленная соседским котенком, пятнышко пыли на башмаках — все эти кошмарные преступления вызывали в Элоизе бешеную злобу, которую она без стеснения срывала на дочери. Когда же незадолго до своего четвертого дня рождения Габриэла случайно порезала палец осколком бутылки (он казался таким красивеньким, когда лежал и переливался на солнце) и закапала кровью новую блузку, ярости Элоизы не было пределов. Ремешок трудился над крошечной попкой девочки не меньше получаса, так что еще три дня она не могла нормально сидеть. А это, в свою очередь, снова раздражало Элоизу, которая была совершенно уверена, что дочь нарочно вертится на стуле, стараясь вызвать к себе жалость или — вероятнее всего! — еще больше досадить матери.
Джон, разумеется, знал о воспитательных методах Элоизы, но ничего не предпринимал. Порой ему казалось, что он и вправду ничего не понимает в детях, а особенно в девочках. Порой он просто не решался вмешаться, чтобы не разозлить жену еще больше, а иногда он бывал с ней почти согласен. Каждый раз, когда Джон становился свидетелем порки, его начинало мутить, и тем не менее он не сделал ничего, чтобы остановить Элоизу. Даже его попытки утешить девочку приводили лишь к тому, что в следующий раз наказание бывало еще более жестоким и продолжительным.
В этой ситуации самым простым выходом было закрыть глаза, заткнуть уши и согласиться с доводами Элоизы. А уж она с легкостью находила объяснения всем своим поступкам. «А быть может, она и в самом деле права, — рассуждал Джон. — Детям действительно нужна суровая дисциплина, чтобы из них вышло что-нибудь путное».
Джон уже давно догадался, что его собственные родители воспитывали его из рук вон плохо. Да, они любили и баловали сына, но это привело к тому, что он вырос нерешительным, безвольным, инертным человеком. Казалось, что, ухаживая за Элоизой, Джон израсходовал всю отпущенную ему на жизнь энергию, и теперь у него просто не было сил во что-либо вмешиваться. Впрочем, будь его родители живы, он, несомненно, посоветовался бы с ними, но они погибли в автокатастрофе. А больше у него не было никого достаточно близкого, с кем он мог бы поговорить о воспитательных методах Элоизы.
Но, боже мой, со стороны Габриэла выглядела идеальным ребенком. Она разговаривала мало и негромко, убирала за собой посуду, никогда не разбрасывала одежду и делала все, что ей говорили. Она не дерзила старшим, не шумела, не сорила. Чудо-дитя, да и только! Постепенно Джон начал утверждаться в мысли, что жена совершенно права. Разве ее стараниями Габриэла не вела себя как образцовая девочка из книжки для дошкольников? А что ужас перед матерью сковывал ее по рукам и ногам, этого Джон не понимал. И, наверное, не мог понять.
Что касалось Элоизы, то, по ее мнению, Габриэла все еще была далека от совершенства. Как бы безупречно девочка себя ни вела, пристрастный глаз матери с легкостью подмечал множество промахов и проступков. Желтый кожаный ремешок не лежал без работы. Каждое слово, обращенное к дочери, Элоиза считала необходимым подкрепить оплеухой. Порой Джон даже побаивался, что Элоиза может серьезно покалечить девочку, но держал свое мнение при себе. Молчание сделалось его высшей доблестью. Методы Элоизы, по крайней мере, не противоречат основам педагогики. Джон предпочитал почаще задерживаться на работе, а стало быть, не присутствовал при наказаниях, ставших почти ежедневными. Элоиза же все синяки и ссадины Габриэлы объясняла феноменальной неловкостью девочки. Под этим же предлогом (ради ее собственного блага!) Габриэле не разрешали ни кататься на скейтборде, ни учиться ездить на велосипеде.
Джон почти искренне считал, что Габриэла действительно очень неуклюжа. В конце концов, чего на свете не бывает.
Когда девочке исполнилось шесть, наказания стали привычными для всех троих. Джон привык их не замечать, Габриэла привыкла каждую минуту ожидать окрика, пинка или удара, что касалось Элоизы, то она, несомненно, получала удовольствие, лупцуя дочь ремнем. Если бы кто-нибудь сказал ей об этом, она была бы возмущена до глубины души. Ведь все это — ради самой же девочки!
Ребенка «необходимо воспитывать», а порка — единственное средство, способное помешать этой девчонке сделаться еще более испорченной, чем она есть.
Надо сказать, Габриэла была вполне согласна с матерью. Не то чтобы ей нравилось, когда ее били… Просто она твердо знала, что хуже ее — нет. Она — непослушный, избалованный, капризный ребенок. Если бы она была хорошей, мамочка, конечно, никогда бы ее не била. И папа не разрешил бы маме наказывать ее.
Ах, часто задумывалась Габриэла, если бы она была хорошей, все было бы совсем иначе. Быть может, мама и папа смогли бы даже полюбить ее. Об этом, впрочем, она не осмеливалась и мечтать. В конце концов, она гадкая и непослушная и постоянно совершает скверные поступки. Ей это было известно потому, что так ей говорила Элоиза, но от этого вера девочки в свою бесконечную порочность не становилась меньше. Разве такую можно любить?!
И вот теперь, когда мать рывком подняла ее с теплого, залитого солнечным светом паркета и потащила по коридору, Габриэла вдруг увидела отца. Джон, который по случаю воскресенья был дома, стоял на пороге своего кабинета и, глубоко засунув руки в карманы, молча следил за расправой. Он все видел, но, как всегда, ничего не сделал, чтобы защитить дочь. Правда, когда Элоиза проволокла девочку мимо него, в глазах Джона промелькнуло тоскливое выражение, но он все же не сказал ни слова. Он даже не вынул рук из карманов, просто отвернулся, словно боясь встретиться с дочерью взглядом.
— Марш в свою комнату, и не смей выходить! — выкрикнула Элоиза и, в последний раз толкнув дочь в спину, скрылась в гостиной. Джон тоже вернулся в кабинет, а Габриэла медленно побрела по коридору, осторожно ощупывая кончиками пальцев начинающую распухать щеку. Она была уже большой девочкой и прекрасно понимала, что наказание она заслужила. Однако, войдя в детскую, Габриэла все же не сдержалась и громко всхлипнула, но тут же, испуганно оглянувшись через плечо, бесшумно прикрыла за собой дверь. Потом она подошла к своей кроватке и, взяв сидевшую рядом на столе куклу, крепко прижала ее к груди.
Эта кукла была единственной игрушкой Габриэлы.
Много лет назад этот подарок сделала ей бабушка — папина мама, которая умерла. Куклу звали Меридит; у нее были прелестные светлые волосы и большие синие глаза в длинных ресницах, которые могли открываться и закрываться. Она была изумительно красивой, и Габриэла очень ее любила, втайне надеясь когда-нибудь стать столь же очаровательной. Но дело было не только в этом.
Меридит была единственной союзницей Габриэлы, ее единственным утешением, ее единственной молчаливой подругой.
Вот и сейчас, осторожно опустившись на краешек кровати, Габриэла принялась раскачиваться вперед и назад, баюкая Меридит и гадая, почему мама так сильно ее избила… Ей никак не удается стать хорошей. Потом ей вспомнилось странное выражение, промелькнувшее в папиных глазах, когда мать протащила ее мимо него.
Отец показался Габриэле разочарованным. Он как будто ожидал, что хотя бы сегодня дочка будет вести себя лучше, чем обычно.
Наверное, она действительно была маленьким чудовищем, как не раз говорила ей мама. Должно быть, ее подменили в больнице, а может… Тут Габриэла просто задохнулась от страха. Ах, неужели ее заколдовали. Какая-то злая колдунья, наподобие той, про которую она краем уха слышала по радио. Ее звали Умиранда, и она зарабатывала себе на жизнь тем, что по просьбе одного плохого дяди заколдовывала маленьких детей. Те начинали так плохо себя вести, что родители в конце концов отказывались от них, и тогда дядя забирал озорников на свой страшный остров, в замок, чтобы…
Что там делал дядя с маленькими детьми в своем замке, Габриэла дослушать не успела. Элоиза обнаружила ее и тут же надавала дочери таких сильных пощечин, что потом у Габриэлы полдня звенело в ушах. Впрочем, по поводу судьбы злосчастных неслухов сомнений не было.
Злодей, конечно, варил из них суп, обильно приправленный луком (Габриэла не любила вареный лук), или пропускал через огромную мясорубку, которую приводил в движение закованный в цепи маленький шотландский пони.
Но главное-то во всем этом то, что она действительно была заколдована! Потому что как иначе объяснить, что, несмотря на все свои старания, она все делала не так?
Мама сердилась с каждым днем все больше, и даже папа… даже папа махнул на нее рукой! В конце концов они от нее откажутся и… и, может быть, мама сама отвезет ее дяде, который варит суп из маленьких непослушных девочек?
Сидя на кровати с бессловесной куклой на руках, Габриэла снова и снова переживала кошмар неизбежного, страшного конца и собственное бессилие. У нее не оставалось уже никакой надежды исправиться. Она не заслуживала любви — в этом Габриэла убедилась уже давно.
Она заслужила только побои. Но в глубине души девочка все же продолжала удивляться, что же она такого сделала, отчего родители ненавидят и стыдятся ее?
Слезы безостановочно катились из больших голубых глаз Габриэлы. Она просидела несколько часов, предаваясь своим невеселым размышлениям и по-прежнему прижимая к себе Меридит. Меридит — ее единственная подруга. Ни бабушек, ни дедушек, ни теток, ни даже двоюродных братьев или сестер у Габриэлы не было. Играть же с другими детьми ей не разрешалось — должно быть, из-за ее мерзкого поведения «И потом, — с горечью подумала девочка, — никто из детей и не станет со мной водиться. Кому понравится играть с такой, как я, если даже мама и папа с трудом меня терпят?..»
Габриэла никогда и никому не рассказывала о своей жизни. Она не хотела, чтобы кто-нибудь знал, насколько она плохая. Когда в школе ее спрашивали, откуда у нее синяки, она отвечала, что упала с лестницы или споткнулась о собаку, хотя никакой собаки у них никогда не было.
Ее родители не были ни в чем виноваты. Во всем была виновата злая Умиранда, но и к ней Габриэла относилась почти что с пониманием. В конце концов, как еще феи могут заработать себе на кусок хлеба, если не колдовством? А уж в том, что она не в силах исправиться, виновата она сама.
Габриэла услышала доносящиеся из гостиной голоса родителей. Они, как это все чаще и чаще случалось, кричали друг на друга, и это тоже была ее вина. Несколько раз, когда мама наказывала ее при папе, он потом кричал на маму. Вот и сейчас он что-то говорил — громко и возбужденно, почти сердито, но слов Габриэла разобрать не могла. Впрочем, речь, несомненно, шла о ней — о том, какая она плохая и непослушная. И ссорились родители из-за нее, и вся жизнь их шла наперекос из-за нее, и дом их потихоньку становился адом из-за нее. Кажется, все плохое, что происходило на свете, творилось из-за нее.
В конце концов, когда за окном сгустились сумерки, Габриэла разделась и забралась под одеяло. Ужинать ее так и не позвали. Она слишком долго плакала, да и фантазия ее разыгралась не на шутку, ей было не до еды. Болела разбитая щека, болела нога, куда мать пнула ее носком туфли, но усталость все же брала свое, и вскоре Габриэла стала забываться сном. Но прежде чем она окончательно провалилась в спасительный морок, ей пригрезился весенний сад весь в цвету — далеко-далеко" в той счастливой стране, где она была совсем другой. С ней играли все дети, все любовались ею, и высокая, ослепительно красивая женщина прижала Габриэлу к себе и сказала, что любит ее. Это были самые замечательные в мире слова, и душа девочки вновь обрела опору на этой земле.
Габриэла заснул;", продолжая прижимать к себе Меридит.
— Послушай, ты не боишься, что однажды просто убьешь ее? — спросил Джон Элоизу. Та посмотрела на него с легкой презрительной гримасой. Он выпил почти полбутылки виски, и теперь его слегка покачивало. Пить Джон начал примерно в то же самое время, когда из недр шкафа был извлечен желтый ремень. Дозы с тех пор постоянно увеличивались. Это было гораздо проще, чем пытаться прекратить издевательство над девочкой или попытаться как-то объяснить себе поведение Элоизы.
Виски отлично помогало. Во всяком случае, после хорошей порции Джон начинал смотреть на вещи проще и находил ситуацию вполне терпимой.
— Нет, не боюсь, — холодно парировала Элоиза. Я знаю, что, если сейчас я научу ее уму-разуму, она никогда не будет пить столько, сколько пьешь ты. Это поможет ей сохранить здоровыми сердце и печень.
Она с отвращением покосилась на Джона, который повернулся к бару, чтобы налить себе новую порцию виски.
— Знаешь, самое ужасное то, что ты, кажется, действительно веришь в то, что говоришь, — пробормотал Джон в пространство.
— Не хочешь ли ты сказать, что я обращаюсь с ней слишком жестоко?! — воскликнула Элоиза. Она терпеть не могла, когда Джон пытался упрекать ее в чем-либо.
— Слишком жестоко? Слишком жестоко?! Да ты в своем уме? Габриэла вся в синяках! Откуда они у нее?
— Не говори глупости, Джон! — резко оборвала его Элоиза. — Ты сам отлично знаешь, что это неуклюжее создание падает каждый раз, когда ей нужно зашнуровать башмаки! Удивительно, как она до сих пор не разбила себе башку!
Тут она закурила сигарету и, откинувшись на спинку дивана, пустила вверх тонкую струйку дыма.
— Послушай, Эл, ты ведь разговариваешь со мной — не с кем-нибудь… — Джон наконец-то справился с пробкой и убрал бутылку обратно в бар. — Кого ты хочешь обмануть? Я прекрасно знаю, как ты относишься к девочке. И она это знает. Бедняжка, она не заслужила и одной сотой доли того, что ей приходится терпеть!
— Я тоже!.. Ты хоть представляешь, каково мне приходится? За этим ангельским личиком, за светлыми кудряшками и невинными голубыми глазками, в которые ты, похоже, влюбился, скрывается настоящее маленькое чудовище — тупое, упрямое, злое. Когда она начинает буйствовать, с ней просто невозможно справиться!..
Джон посмотрел на Элоизу неожиданно внимательным взглядом, словно с его глаз на мгновение спала пелена. Казалось, он даже слегка протрезвел.
— Ты ревнуешь? — спросил он. — Скажи правду, Эл, ведь все из-за этого? Ты просто ревнуешь, ревнуешь к своей собственной дочери.
— Ты пьян, — отрезала Элоиза, взмахнув рукой, в которой была зажата дымящаяся сигарета. Она не желала его слушать, но Джон уже не мог остановиться.
— Я прав, и ты это знаешь, — сказал он. — Это… это отвратительно, Эл. Я начинаю жалеть, что мы завели ребенка. Честное слово, лучше бы Габриэле не рождаться на свет! Это чудовищно — иметь такую мать!
Джон совершенно забыл о том, что тоже несет ответственность за дочь и за все, что с ней происходит. Он гордился тем, что ни разу не тронул Габриэлу и пальцем, а то, что мать колотит ее почем зря, как бы и не было важным.
Элоиза криво усмехнулась.
— Если ты хочешь, чтобы я почувствовала свою вину, можешь не стараться. Я знаю, что делаю.
— Вот как? — Джон попытался усмехнуться самой саркастической улыбкой, но выпитое виски сыграло с ним злую шутку. Он покачнулся и, чтобы не упасть, вынужден был схватиться за угол буфета. Элоиза, наблюдавшая за ним, презрительно скривила губы.
— Ты каждый день избиваешь ее чуть ли не до бесчувствия, — продолжил Джон, не без труда обретя равновесие. — И это — воспитание?! И до каких же пор? Пока она не вырастет? По-моему, ты убьешь ее раньше!.. Но ей-богу, смерть лучше, чем такая жизнь.
С этими словами он залпом осушил свой бокал и на несколько мгновений затих, прислушиваясь к ощущениям. Иногда виски делало его храбрее, и Джон вскипал праведным гневом. Но еще ни разу ему не удалось полностью забыть о том, что происходит в их доме. Наверное, чтобы не думать об этом, ему надо было выпить море.
— Габриэла — просто узел неразрешимых проблем, Джон, — произнесла Элоиза, не без труда сохраняя видимость спокойствия. — И наш долг — любыми средствами приучить ее вести себя как положено.
— Да, твои уроки Габриэла запомнит на всю жизнь! — заявил Джон и снова покосился в сторону бара.
— Надеюсь. — В глазах Элоизы вспыхнул какой-то огонек, но она сразу опустила ресницы, и Джон не успел понять, что это было. — Нечего попусту носиться с детьми и баловать их — им же самим во вред. И, заметь, Габриэла знает, что я права. Когда я ее наказываю, она никогда не спорит. Она понимает, что заслужила трепку, и это уже хорошо. Значит, она не безнадежна. Пока не безнадежна, и я не имею права опускать руки.
— Чушь! — воскликнул Джон. — Она слишком боится тебя. Я уверен, Габриэла считает, что, если она попытается что-то сказать в свое оправдание, ты убьешь ее на месте.
— Послушать тебя, так получается, что это я — чудовище. Не она, а я!.. — Элоиза изящным движением закинула ногу на ногу. У нее были очень красивые, стройные ноги, но ее внешность уже не волновала Джона. Вместо утонченной леди с прекрасным лицом он видел разъяренную красную образину, почти нечеловеческую. Такою его изысканная жена бывала с Габриэлой. Но ему по-прежнему недоставало решимости, чтобы что-то изменить. Пожалуй, он скорее бросил бы Элоизу, чем осмелился вмешаться в ее «воспитание». И, подсознательно понимая это, Джон начинал понемногу ненавидеть себя.
— Я считаю, — сказал он, — что Габриэлу необходимо отправить в частный пансион, где она могла бы жить и учиться. Перемена обстановки пойдет ей на пользу. Главное, рядом не будет тебя… нас…
— Но прежде чем это случится, я должна обучить ее хорошим манерам, — возразила Элоиза.
— Обучить?! Ах вот как это, оказывается, называется!
А скажи, разбитая щека и синяки на ногах — это тоже входит в программу воспитания маленькой леди?
— К утру все пройдет, — спокойно ответила Элоиза.
Джон знал, что тут она, несомненно, права, но ему чертовски не хотелось признавать это. Элоиза действительно как будто знала, куда и с какой силой бить, чтобы не оставлять синяки и ссадины на открытых частях тела Габриэлы. Другое дело — синяки на плечах и на ногах от колена и выше. Тут она была непревзойденным мастером. Кровоподтеки от ее ударов не сходили неделями, изменяясь в цвете от черно-багровых до светло-желтых.
— Ты просто сука!.. — выругался Джон и, нетвердо ступая, вышел из гостиной. Его жена действительно была настоящей сукой, но с этим, похоже, уже ничего нельзя было поделать.
По дороге в спальню Джон остановился перед слегка приоткрытой дверью детской и долго стоял, вглядываясь в темноту внутри. Из комнаты не доносилось ни звука, а смутно белеющая во мраке кровать казалась пустой, но, когда Джон на цыпочках вошел внутрь, он увидел, что дочь спит, свернувшись клубочком в ногах кровати и накрывшись одеялом с головой. Такую манеру спать Габриэла приобрела уже довольно давно. Ей казалось, что если матери почему-либо вздумается зайти сюда, то она, возможно, ее не заметит. Это, разумеется, нисколько не помогало, но отказаться от этой привычки Габриэла не могла. Так она чувствовала себя безопасней.
При взгляде на дочь глаза Джона невольно увлажнились. Он сразу понял, что означает эта поза и это натянутое на голову одеяло. В крошечном комочке, который едва угадывался под складками, было столько ужаса, что он не посмел даже прикоснуться к дочери, чтобы уложить ее как следует. Оставив Габриэлу, Джон повернулся и вышел так же бесшумно, как и вошел.
Поднимаясь в свою комнату, он раздумывал о том, а не безумна ли Элоиза и какова будет дальнейшая судьба Габриэлы. О том, что у девочки, кроме полусумасшедшей матери, есть еще и отец, Джон искренне забывал.
Он ничего не мог сделать, чтобы спасти Габриэлу. В каком-то смысле он был столь же бессилен и беспомощен перед Элоизой, как и их маленькая дочь.
Ему оставалось только презирать себя, и он презирал, заливая виски собственные стыд и горечь.